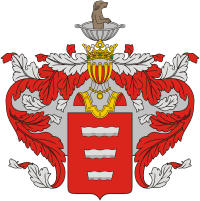Баратынский, Евгений Абрамович
Евге́ний Абра́мович Бараты́нский (Бораты́нский[6][* 1]; 19 февраля [2 марта] 1800[9][10][11] (в некоторых источниках 7 (19) марта 1800)[12][13][14][15][* 2], село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 29 июня [11 июля] 1844, Неаполь) — русский поэт, переводчик[17]. Офицер русской императорской армии. Друг поэтов А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, мемуариста Н. В. Путяты. Участник литературных «сред» П. А. Плетнёва, и «суббот» В. А. Жуковского. Один из владельцев подмосковного имения Мураново.
Что важно знать
Биография
Евгений Баратынский происходил из галицкого шляхетского рода Боратынских[18][19][20], в конце XVII века выехавшего в Россию. Боратынский — фамилия от замка Боратынь[21] в гмине Хлопице, Ярославском повяте Подкарпатского воеводства Польши[22][23], в древнерусской Перемышльской земле.
Дед поэта, Андрей Васильевич Баратынский (ок. 1738—1813) — помещик, титулярный советник; в молодости служил (от чина рядового до поручика) в полку Смоленской шляхты. Бабушка — Авдотья Матвеевна, урождённая Яцына (или Яцинина), дочь помещика села Подвойского, перешедшего в семью Баратынских как приданое[24].
Отец, Абрам Андреевич Баратынский (1767—1810) — отставной генерал-лейтенант, участник Русско-шведской войны (1788—1790), состоял в свите императора Павла Первого, был командиром Лейб-гвардии Гренадерского полка и инспектором Эстляндской дивизии[24]. Мать, Александра Фёдоровна Черепанова (1776—1852) — дочь коменданта Петропавловской крепости Фёдора Степановича Черепанова (ум. до 1812), выпускница Смольного института, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны[21].
В 1796 году Абраму Баратынскому и его брату Богдану император Павел I пожаловал большое поместье с двумя тысячами душ[21] — село Вяжля в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, где и родился будущий поэт[16].
В марте 1804 года Абрам Андреевич с женой и детьми перебрался из Вяжли в имение Мара, которая располагалось неподалёку в том же Кирсановском уезде[25]. В усадьбе Мара проходило раннее детство Баратынского[7].
Дядькой у Евгения был итальянец Джьячинто Боргезе, поэтому мальчик рано познакомился с итальянским языком. Также он владел французским[21], принятым в доме Баратынских, — писал на французском письма с восьми лет. В 1808[7] году[* 3] Баратынского отдали в частный немецкий пансион в Петербурге для подготовки к поступлению в Пажеский корпус. В пансионе он познакомился[26] с немецким языком[7].
В 1810 году умер Абрам Андреевич, и воспитанием Евгения занялась мать[7], умная, добрая, энергичная, но и несколько деспотичная женщина, — от её гиперлюбви поэт страдал до самой женитьбы[21].
В конце декабря[21] 1812 года Баратынский поступил в Пажеский корпус[27] — самое престижное учебное заведение Российской империи, имевшее целью предоставить сыновьям знатных дворянских фамилий возможность достижения военных чинов I—III класса[28]. В письмах матери Евгений писал о своём желании посвятить себя военно-морской службе[21].
До весны 1814 года всё обстояло благополучно. Потом успеваемость и поведение Баратынского становятся неровными[21]. Внутреннее сопротивление корпусным порядкам привело к тому, что весной 1814 года его оставили на второй год[21].
Компания товарищей, в которую попал Баратынский в корпусе, развлекалась весёлыми проделками, досаждая начальникам и преподавателям, создав под влиянием «Разбойников» Фридриха Шиллера «Общество мстителей»[29].
Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу…[29]
В феврале 1816 года Баратынский и его приятель Дмитрий Ханыков украли из бюро камергера Приклонского, отца одного из соучастников (он сам предоставил ключ), табакерку в золотой оправе и пятьсот рублей, которые к моменту поимки почти полностью истратили[21][24]. Это происшествие вызвало громкий скандал в обществе, дошедший до императора. Повелением от 26 февраля 1816 года Баратынский и Ханыков были исключены из Пажеского корпуса и отданы их родственникам «с тем, чтобы они не были принимаемы ни в гражданскую, ни в военную службу, разве захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты»[7][21][30]. Это событие произвело на Баратынского огромное впечатление и позже отразилось в его творчестве[31].
Покинув столицу, Баратынский несколько лет жил или с матерью в Маре, или у дяди по отцу, отставного вице-адмирала Богдана Андреевича Баратынского в селе Подвойском Смоленской губернии[21].
В деревне дяди Баратынский нашёл небольшое общество весёлой молодёжи[7][21], начал писать стихи (интерес к литературному творчеству появился у него ещё в Пажеском корпусе)[7]. Подобно многим другим людям того времени он писал французские куплеты, но до нас дошли и русские стихи от 1817 года (по словам В. Я. Брюсова, ещё слабые)[7].
В феврале 1819 года Баратынский поступил рядовым в Лейб-гвардии Егерский полк[32].
Один раз меня поставили на часы во дворец во время пребывания в нём покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах: он подошёл ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и изволил ласково сказать: «Послужи!»[33].
Приятель по корпусу Креницын[29][* 4] познакомил Баратынского с бароном Антоном Дельвигом. Как дворянин, Баратынский имел бо́льшую свободу, чем простые нижние чины. Вне службы ходил во фраке, жил не в общей казарме. С Дельвигом они сняли небольшую квартирку и на пару сочинили стихотворение:
Там, где Семёновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко…
Егерский полк в то время занимал Семёновские казармы на Звенигородской улице[34].
Через Дельвига Баратынский быстро сошёлся с поэтом Александром Пушкиным[7]. По словам Петра Вяземского:
это была забавная компания: высокий, нервный, склонный к меланхолии Баратынский, подвижный, невысокий Пушкин и толстый вальяжный Дельвиг.
Тогда это были просто талантливые, беспокойные юноши, которые всё время говорили о поэзии, и каждый искал в ней свой путь[35].
Пушкин, Дельвиг, Баратынский — русской музы близнецы.
Баратынский познакомился с Вильгельмом Кюхельбекером (Кюхлей)[7], Николаем Гнедичем и другими литераторами, начал печататься: послания «К Креницину», «Дельвигу», «К Кюхельбекеру», элегии, мадригалы, эпиграммы. Он посещал дружеские поэтические вечера (позже описанные в «Пирах»), салон Пономарёвой, литературные «среды» Петра Плетнёва, «субботы» Василия Жуковского[29].
К 1819 году Баратынский вполне овладел поэтической техникой. Его стихотворения стали приобретать то «необщее выражение», которое впоследствии он сам признавал главным достоинством своей поэзии[7]. Своими лирическими произведениями Баратынский быстро занял видное место среди поэтов-«романтиков».
В январе 1820 года Баратынский был произведён в унтер-офицеры и переведён из гвардии в Нейшлотский пехотный полк, стоявший в Финляндии в укреплении Кюмени[* 5] и окрестностях[7]. Полком командовал подполковник[* 6] Георгий Лутковский — родственник Баратынского[* 7].
Жизнь в Финляндии, среди суровой природы и вдали от общества, усилила романтический характер поэзии Баратынского, придав ей сосредоточенно-элегическое настроение. Финляндские впечатления вылились в нескольких его лирических стихотворениях («Финляндия», «Водопад»). С особенной яркостью отразились они в первой поэме Баратынского «Эда»[7] (1826), о которой Пушкин писал:
…произведение, замечательное своей оригинальной простотой, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных.
Первоначально Баратынский вёл в Финляндии спокойную, размеренную жизнь. Его общество ограничивалось двумя-тремя офицерами, которых он встречал у полкового командира[7]. Баратынский жил на правах близкого человека в доме Лутковского, дружил с командиром роты Николаем Коншиным, писавшим стихи[* 8]. Ему было разрешено ездить в Петербург. Баратынского тяготила не служба, а противоречивость положения, в котором он оказался. Он ожидал перемены судьбы, которую мог принести офицерский чин[29].
Позже он подружился с адъютантами генерал-губернатора Финляндии Арсения Закревского Николаем Путятой и Александром Мухановым[7]. Путята, дружба с которым сохранилась у Баратынского на всю жизнь, описал внешний облик поэта, каким он увидел его впервые: «Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние»[7].
В период службы в Финляндии Баратынский продолжал печататься. Его стихи выходили в альманахе Александра Бестужева и Кондратия Рылеева «Полярная Звезда»[37].
Поэтов-декабристов не вполне устраивали стихи Баратынского, так как в них отсутствовала социальная тематика и чувствовалось влияние классицизма. Вместе с тем самобытность его лирики не вызывала сомнений. Рано проявившаяся склонность к изощрённому анализу душевной жизни доставила Баратынскому славу тонкого и проницательного «диалектика»[29].
Осенью 1824 года, благодаря ходатайству Путяты, Баратынский получил разрешение состоять при корпусном штабе генерала Закревского в Гельсингфорсе. Там Баратынский окунулся в бурную светскую жизнь[38]. Он увлёкся женой генерала Аграфеной Закревской, у которой позже был роман и с Пушкиным[7][39].
Эта страсть принесла поэту много мучительных переживаний. Образ Закревской в его стихах отразился неоднократно — прежде всего в образе Нины, главной героини поэмы «Бал», а также в стихотворениях: «Мне с упоением заметным», «Фея», «Нет, обманула вас молва», «Оправдание», «Мы пьём в любви отраву сладкую», «Я безрассуден, и не диво…», «Как много ты в немного дней»[7]. В письме к Путяте Баратынский сообщал:
Спешу к ней. Ты будешь подозревать, что я несколько увлечён: несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно[7].
И тут же добавлял:
Какой несчастный плод преждевременной опытности — сердце, жадное страсти, но уже неспособное предаваться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение М. И моё[7].
Из Гельсингфорса Баратынский должен был вернуться в полк в Кюмень. Туда весной 1825 года Путята привёз ему приказ о производстве в офицеры (Баратынский был произведён в прапорщики 21 апреля). По словам Путяты, Баратынского это «очень обрадовало и оживило»[7].
В конце мая Баратынский из Роченсальма заказывал в Гельсингфорсе через Муханова голубые эполеты с вышитой шифровкой «23» (номер дивизии). Вскоре Нейшлотский полк был назначен в Петербург для несения караульной службы. Полк выступил в поход и 10 июня был в столице[33] — прапорщик Баратынский возобновил свои литературные знакомства[7].
В сентябре Баратынский вернулся с полком в Кюмень. Он съездил ненадолго в Гельсингфорс и, получив известие о болезни матери[33], 30 сентября 1825 года уехал в отпуск в Москву. В Финляндию Баратынский больше не вернулся[29][33].
Из письма Баратынского Путяте известно, что ещё в ноябре 1825 года из-за болезни матери Баратынский был намерен перевестись в один из полков, стоявших в Москве[40]. 13 ноября в доме Мухановых[* 9] Баратынский познакомился с Денисом Давыдовым, который убедил его выходить в отставку, предлагая своё участие. 10 декабря Давыдов писал Закревскому с просьбой, в случае прошения от Баратынского, решить без промедления[33]. 31 января 1826 года, уладив дело посредством почты[33], Баратынский вышел в отставку[29].
В Москве Баратынский вёл светскую жизнь, но местным обществом был недоволен[29]. Он писал Путяте:
Сердце моё требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположенья рождает во мне тяжёлое чувство… Москва для меня новое изгнание[29].
Денис Давыдов ввёл Баратынского в дом своего родственника — отставного[40] генерал-майора Льва Энгельгардта (Давыдов был женат на племяннице генерала Софье Николаевне Чирковой). Вскоре Баратынский женился на старшей дочери Энгельгардта Анастасии (1804—1860[40]). Венчание состоялось 9 июня 1826 года[7] в церкви Харитония в Огородниках[41].
Его жена не считалась красавицей[31], но была умна, имела тонкий вкус. Её нервный характер доставлял много страданий Баратынскому и способствовал тому, что многие друзья от него отдалились[7].
Известность Баратынского началась после издания в 1826 году его поэм «Эда» и «Пиры» и первого собрания лирических стихотворений в 1827 году. Год спустя была опубликована поэма «Бал»[* 10], в 1831 году — «Наложница» («Цыганка»)[7].
Поэмы Баратынского отличались замечательным мастерством формы и выразительностью изящного стиха, не уступающего пушкинскому[42]. Их было принято ставить ниже лирических стихотворений Пушкина, однако, по мнению Александра Кушнера, написанные раньше «Пиры» Баратынского «опередили на полшага „Евгения Онегина“»[43]. Кушнер отмечал необыкновенно живой, лёгкий и «правильный» слог в «Пирах», от которого Баратынский потом намеренно отойдёт[44].
В 1827 году Татьяна Пассек вспоминала: «Мы увидали Пушкина с хор Благородного собрания. Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодых человека. Один был блондин, высокого роста; другой брюнет — роста среднего, с чёрными кудрявыми волосами и выразительным лицом. Смотрите, сказали нам: блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу»[45]. Это достаточно яркий штрих, показывающий, какой любовью и популярностью пользовались оба поэта[46].
Баратынский стал довольно популярен. Он печатал статьи в журналах и альманахах[7][47]. Литературные враги кружка Пушкина (журнал «Благонамеренный» и др.) нападали на якобы «преувеличенный романтизм Баратынского»[7]. В то же время, в поэме «Эда» часть современников не нашла ожидаемого «высокого романтического содержания» и «высокого романтического героя»[48].
Брак принёс Баратынскому материальное благополучие и прочное положение в свете[40]. Семейная жизнь поэта была довольно благополучной[7]. В 1828 году он писал Путяте:
Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но… Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: «Помнишь?». С кем мог бы потолковать нараспашку…[29]
В 1828 году Баратынский поступил на гражданскую службу в Межевую канцелярию[7] с чином коллежского регистратора, в 1830 году получил следующий чин губернского секретаря, а в 1831 году вышел в отставку[49][50][51]. Больше поэт не служил — занимался управлением имениями и литературной деятельностью.
В Москве Баратынский сошёлся с князем Петром Вяземским[40], с кружком московских литераторов: Иваном Киреевским, Николаем Языковым, Алексеем Хомяковым, Сергеем Соболевским, Николаем Павловым[7]. Но общался преимущественно с Вяземским, иногда бывал в салоне Зинаиды Волконской, печатался в альманахе Дельвига «Северные Цветы» и журнале Николая Полевого «Московский Телеграф»[40].
В 1831 году Иван Киреевский предпринял издание журнала «Европеец»[7]. Баратынский написал для него рассказ «Перстень» и драму[26][* 11]. Также готовился вести в «Европейце» полемику с журналами. Когда «Европеец» был запрещён, Баратынский сообщал Киреевскому:
Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным… Что делать!.. Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным[26].
К работе над прозой подтолкнул Баратынского Вяземский, при поддержке Киреевского. Однако дальнейшие, после «Перстня», опыты Баратынского в прозе не были доведены до конца и остались неизвестны[26]. По своему содержанию «Перстень» приближается к позже сложившемуся детективному жанру, что относит его к «протодетективам» отечественной литературы[52].
Киреевский сравнивал Баратынского с голландским мастером художественной миниатюры Мирисом, с ним соглашался Пушкин, который находил это сравнение «удивительно ярким и точным» относительно поэм и элегий Баратынского[53].
После запрещения «Европейца» и до 1835 года Баратынским было написано всего несколько стихотворений (напечатано только два, в альманахе Александра Смирдина «Новоселье» в 1833 году). В это время Баратынский редактировал старое, готовил свои стихи к изданию[26].
В 1835 году вышло второе издание стихотворений Евгения Баратынского в двух частях[7]. Издание представлялось поэту как итог его литературной работы[26].
После подавления восстания декабристов Баратынский, в отличие от Пушкина, считал невозможной для поэта близость к власти и участие в политике[43].
Поэт жил то в Москве, то в подмосковном имении Мураново (приданое жены), то в Казани, много занимался хозяйством[7]. По переписке Баратынского конца 1830-х — начала 1840-х годов о нём создаётся впечатление, как о рачительном хозяине и заботливом отце. В Мураново он построил дом, переоборудовал мельницу, завёл лесопилку, насадил новый лес. У супругов Баратынских родилось девять детей[54].
Изредка он ездил в Петербург, где в 1839 году познакомился с Михаилом Лермонтовым[7], не придав этому значения[55][56][57].
Баратынскому были свойственны неумение и нежелание производить впечатление, быть в центре внимания. Он был застенчив и скромен[31]. Внутреннее целомудрие и сдержанность отличали его от других авторов, громко заявляющих о своих правах[48]. Вяземский вспоминал о Баратынском:
Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался с шумом и обилием…[43]
Придя окончательно к убеждению, что «в свете нет ничего дельнее поэзии»[7], Баратынский тем не менее писал мало. Он долго работал над своими стихотворениями и часто коренным образом переделывал уже опубликованные[7].
В поэзии Баратынского 1830-х годов появляются новые черты. Он часто обращается к архаизмам, к опыту поэтов не карамзинской традиции, стихи его становятся более риторичными, торжественно-скорбными[58]. Неторопливость лирических жалоб сменилась лапидарностью, придающей некоторую сухость самому переживанию[57].
Баратынский боролся с той «лёгкостью» поэтического стиля, для которых так много сделал вместе с Пушкиным в начале 1820-х годов[43]. В поздних редакциях появились и точные детали. В первой редакции «Финляндии» (1820) нет начальных строк о «гранитных расселинах» — были «гранитные пустыни»[57]. Сравнение окончательной редакции «Эды» (1835), с первоначальной (1826) показывает последовательное стремление поэта отойти от романтической коллизии, стремление к прозаизации, к совершенной простоте[48]. Современники, в основном, не оценили этой работы и досадовали на Баратынского за то, что он лишал свои ранние стихотворения привычной лирической окраски[57].
Будучи истинным поэтом, Баратынский не был по сути литератором. Для того, чтобы писать что-либо, кроме стихов, ему нужна была внешняя причина. Так, поэту Андрею Муравьёву он сделал подробный разбор сборника его стихов «Таврида»[7], в котором высказал соображения, звучащие как собственный творческий принцип:
Истинные поэты потому именно так редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, то надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать?[29]
В сохранившихся письмах Баратынского немало острых критических замечаний о современных ему литераторах, которые он никогда не пытался напечатать. Интересны замечания Баратынского о том, что он считал слабым или несовершенным у Пушкина. Впоследствии это дало основания некоторым авторам к обвинению Баратынского в зависти к Пушкину[7][* 12].
Чудовищные обвинения в сальеризме, в зависти к Пушкину, предъявленные Баратынскому посмертно недобросовестными любителями скользких предположений, могли возникнуть только потому, что пошлость всегда опирается на собственный опыт и не способна и не хочет понять истинных причин и побуждений[43].
Предполагается, что в стихотворении «Осень» Баратынский имел в виду Пушкина, когда говорил о «буйственно несущемся урагане», которому всё в природе откликается, сравнивая с ним «глас, пошлый глас, вещатель общих дум», и в противоположность этому «вещателю общих дум» указывал, что «не найдёт отзыва тот глагол, что страстное земное перешёл»[7].
Известие о смерти Пушкина застало Баратынского в Москве в те дни, когда он работал над «Осенью». Стихотворение осталось незавершённым[7].
Отказ от «общих вопросов» в пользу «исключительного существования» вёл Баратынского к неизбежному внутреннему одиночеству и творческой изоляции. Последние его годы ознаменованы нарастающим одиночеством, конфликтом как с давними оппонентами пушкинского круга (литераторами вроде Полевого и Булгарина), так и с нарождавшимися западниками и славянофилами (редакция журнала «Москвитянин») — тем и другим Баратынский посвящал едкие эпиграммы[60].
Нелёгкий, «разборчивый», взыскательный характер и особые творческие задачи поставили Баратынского в обособленное положение и в жизни, и в литературе: «стал для всех чужим и никому не близким»[29].
1837 год ознаменован для поэта утратой последних иллюзий и окончательного разочарования в современности. Баратынский перестал участвовать в литературной жизни, жил в Муранове, в письмах сообщал о желании поехать в Европу[61]. За весь 1838 год им написано только двадцать стихотворных строк[43].
В 1842 году Баратынский издал свой последний сборник стихов — «Сумерки», который называют первой в русской литературе «книгой стихов» или «авторским циклом» в новом понимании, что будет характерно уже для поэзии начала XX века. «Сумерки» композиционно выстроены — каждое последующее стихотворение вытекает из предыдущего, внося в общее поэтическое повествование свои оттенки[58].
Это издание привело к новому удару судьбы, от которого страдавший от равнодушия и непонимания Баратынский оправиться уже не смог[43].
Критика встретила сборник холодно. Отрицательную оценку ему дал Виссарион Белинский[7], «прогрессистские воззрения которого на литературу, — по мнению Максима Амелина, — намутили много воды и отвратили от истинной поэзии несколько поколений читателей»[54]. Белинский заключил в рецензии на «Сумерки», что Баратынский в своих стихах восстал против науки и просвещения[7]. Имелись в виду следующие строки:
Век шествует путём своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
— Из стихотворения «Последний поэт»
Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, —
Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стеснённой грудию восстонет,
И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?
Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.
Евгений Баратынский, 1843 г.
По мнению Александра Кушнера, Белинский был повинен в ранней смерти Баратынского, походя «убив» его словом не только в переносном смысле[43]. «Раненый» Баратынский ответил Белинскому стихотворением «На посев леса»[7]:
…Велик Господь! Он милосерд, — но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает Он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.
Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавой;
Но подо мной сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!..
Против Белинского также направлено стихотворение «Когда твой голос, о поэт…», опубликованное Баратынским после выхода «Сумерек»[43].
Осенью 1843 года на деньги, вырученные от удачной продажи леса[54], Баратынский осуществил своё желание — путешествие за границу[7]. Вместе с женой и тремя детьми[31] поэт посетил Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Майнц, Кёльн[62].
Полгода он провёл в Париже, где познакомился со многими французскими писателями: Альфредом де Виньи, Проспером Мериме, М. Шевалье, Ламартином, Шарлем Нодье и другими. Баратынский перевёл несколько своих стихотворений на французский[7].
Европа не оправдала надежд Баратынского. Поздравляя Путяту с новым 1844 годом, Баратынский писал:
Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который никак незаменим здешней наукой; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее и красноречием мороза зовёт к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе двенадцатью днями других народов и посему переживём их может быть двенадцатью столетиями[63].
Весной 1844 года Баратынский отправился через Марсель морем в Неаполь[7]. На корабле он написал стихотворение «Пироскаф», выражающее твёрдую готовность умереть для истинной жизни[54].
В Неаполе у Анастасии Львовны произошёл очередной нервный припадок. Это сильно подействовало на Баратынского. У него усилились головные боли. 29 июня (11 июля) 1844 года поэт скоропостижно скончался[31].
Только в августе следующего года кипарисовый гроб с телом Баратынского перевезли в Петербург[63]. Его захоронили в Александро-Невском монастыре[54] на Ново-Лазаревском кладбище[* 13]. Кроме родных на похоронах присутствовали три литератора: князь Пётр Вяземский, Владимир Одоевский и Владимир Соллогуб[43]. Газеты и журналы почти не откликнулись на смерть Баратынского[27].
Сочинения Евгения Баратынского были изданы его сыновьями в 1869, 1883 и 1884 годах[7]. Творчество поэта изучается в российских школах и вузах[66][67][68].
Идиостиль
Синтаксис произведений Баратынского эволюционировал в направлении к усложнению: если синтаксис стихотворений раннего периода творчества Баратынского в целом характеризуется большей лёгкостью и прозрачностью построения, то грамматический строй лирики позднего Баратынского переусложнён, архаичен для пушкинского времени. Баратынский в 1820—1830-х годах — прежде всего популярный автор любовных элегий, остроумных эпиграмм и насыщенных анакреонтическими, эпикурейскими мотивами посланий. Синтаксис стихотворений раннего периода творчества Баратынского разнообразен, однако характеризуется большей лёгкостью и прозрачностью построения, чем грамматика «Сумерек». В конце 1830-х годов в поэзии Баратынского обозначился переходный период, обозначилось противоречие между «теснотой» формы и «расширяющимся содержанием». Своеобразным результатом поисков на пути насыщения малой лирической формы метафизическим содержанием стал цикл «Сумерки» с его «трудной» поэтикой. В «грамматике поэзии» позднего Баратынского ярко высвечиваются черты, свойственные эпохе барочной и классицистической оды, стилю «плетения словес» старорусских книжников, «тёмным» языкам духовного гимна и псалма, библейского пророчества, проповеди[69].
Оценка творчества
Статус великого поэта за Баратынским давно установлен…[17]
— Елена Невзглядова, 2000 г.
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
Евгений Баратынский, 1828 г.
Известны слова Пушкина:
Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко[35][70].
Современники видели в Баратынском талантливого поэта, но поэта прежде всего пушкинской школы. Его позднее творчество критика не поняла.
Литературоведение второй половины XIX века считало Баратынского второстепенным, чересчур рассудочным автором. Это мнение определили скоропалительные, противоречивые (иногда одного и того же стихотворения), безапелляционные оценки Белинского («…но сложится певцу канон намеднишним Зоилом…»). Так, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (литературная редакция Семёна Венгерова) написано следующее:
Как поэт, он почти совсем не поддаётся вдохновенному порыву творчества; как мыслитель, он лишён определённого, вполне и прочно сложившегося миросозерцания; в этих свойствах его поэзии и заключается причина, в силу которой она не производит сильного впечатления, несмотря на несомненные достоинства внешней формы и нередко — глубину содержания[58].
В начале XX века, благодаря русским символистам, происходит кардинальный пересмотр оценки наследия поэта. Баратынский стал восприниматься как самостоятельный, крупный лирик-философ, стоящий в одном ряду с Тютчевым. При этом в стихах Баратынского подчёркивались черты, близкие поэзии Серебряного века[71]. Осип Мандельштам писал:
Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные[* 14] строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени[29].
О Евгении Баратынском тепло отзывались многие значительные русские авторы XX века — в частности, Александр Кушнер[43], Виктор Кривулин[72] и Иосиф Бродский[73]. В интервью И. Бродский говорил: «Я думаю, что Баратынский серьёзнее Пушкина. Разумеется, на этом уровне нет иерархии, на этих высотах…»[74]. Неоднозначно отзывался Владимир Набоков. По его мнению:
Баратынский хотел воплотить нечто глубокое и трудно передаваемое, но по-настоящему сделать это так и не сумел[75].
Но эта мысль дублировала суждения литераторов-современников Баратынского, с которыми он перед смертью разошёлся[63].
Память
Имя Баратынского носят:
- переулок в Уссурийске;
- улица в городе Рассказово Тамбовской области;
- улица в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской области;
- улицы в Донецке и Кривом Роге;
- Государственный музей Баратынского в Казани, ул. Горького, 25[76].
- Памятник в Тамбове, в сквере на пересечении улиц Куйбышева, Мичуринской и Пензенской, был торжественно открыт 12 октября 2011 года[77].
- Библиотека в Тамбове (филиал № 22 ЦБС)[78].
- Центральная районная библиотека Умётского района Тамбовской области[79].
- Комната-музей в имении Мара (с. Софьинка)[79].
- Школа села Софьинка (Мара) Умётского района Тамбовской области[79][80][81].
В вузах и библиотеках Тамбовской области проводятся научные чтения и научно-практические конференции, посвящённые Баратынскому[79][82]; в школах — «часы поэзии»[83], в художественных музеях — выставки[84][85]. С 1984 года в селе Софьинка ежегодно проводятся дни поэзии (литературно-музыкальные праздники) Е. А. Баратынского[79][86][87][88][89][90]. Постоянная выставка, посвящённая Е. А. Баратынскому, организована в Кирсановском районном музее[79].
Библиография
- Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма, Евгения Баратынского. — Санкт-Петербург: тип. Деп. нар. просв., 1826. — [6], 56 с.
- Стихотворения Евгения Баратынского. — Москва: В типографии Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1827. — 178 с.
- Стихотворения Баратынского. Часть I. — [Москва]: В типографии А[вгуста] Семена [при Императорской Медико-Хирургичес. Академии], [1835]. — 240 с.: портр. — (Москва 1835 года)
- Сумерки / Соч. Евгения Боратынского. — Москва: тип. А. Семена при Имп. Мед.-хирург. акад., 1842. — 88 с.
- Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского: С портр. авт., снимк. его почерка, его письмами и биогр. о нём сведениями: Сверено с преж. изд. — Москва: тип. Грачёва и К°, 1869. — X, IV, 5—520 с.
- Стихотворения Евгения Абрамовича Баратынского. — Москва: Унив. тип. (М. Катков), 1883. — X, 212 с.
- Сочинения Е. А. Баратынского: С портр. авт. и биогр. сведениями о нём. — Санкт-Петербург: А.С. Суворин, [1894]. — 384 с. — (Дешёвая библиотека; № 310)
- Избранные сочинения: лирические стихотворения, поэмы, прозаические статьи, материалы для изучения поэта / Е. А. Баратынский; под ред. А. Н. Чудинова. — Санкт-Петербург: Изд. И. Глазунова, 1896. — [2], VI, 160 с., [1] л. ил. — (Русская классная библиотека. Вып. 23)
- Стихотворения Евгения Абрамовича Боратынского. Ч. 1, [Ч. 2. Лирические стихотворения, элегии, послания и эпиграммы: С подстроч. вариантами. Поэмы]. — Казань: типо-лит. И. С. Перова, 1900. — [4], 559 с.
- Сборник стихотворений Евгения Абрамовича Боратынского: [Лирич. стихотворения, элегии, послания и эпиграммы]. — Казань: типо-лит. И. С. Перова, 1901. — 246 с.
- Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений: В 2 тт. / Под. ред., с примеч. и вступ. ст. М. Л. Гофман. — СПб., 1914—1915.
- Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений: В 2 тт. / Ред., коммент. и биогр. ст. Е. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой; Вступ. ст. Д. П. Мирского. — М.; Л., 1936.
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма / Подгот. текста и примеч. О. Муратовой и К. В. Пигарева. — М., 1951.
- Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Н. Купреяновой. — Л., 1957.
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Изд. подгот. Л. Г. Фризман. — М.: Наука, 1982[27].
- Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений / Составитель, подгот. текста и примеч. В. М. Сергеева. — Л.: Сов писатель, 1989. — 464 с.
- Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений и писем / Руководитель проекта А. М. Песков. Т. 1: Стихотворения 1818—1822 годов / Ред. А. Р. Зарецкий, А. М. Песков, И. А. Пильщиков. — М.: Языки славянской культуры, 2002; Т. 2. Ч. 1: Стихотворения 1823—1834 годов / Ред. О. В. Голубева, А. Р. Зарецкий, А. М. Песков. — М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Письма Е. А. Боратынского к И. В. Киреевскому, детские стихотворения Е. А. Боратынского и др. Татевский сборник С. А. Рачинского. С прил. портр. А. С. Хомякова / Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, СПб., 1899.
Фильмы, передачи
- Фильм «Поэты России. XX век. Евгений Баратынский». Архивная копия от 26 мая 2017 на Wayback Machine
- Фильм «Екклесиаст. Евгений Баратынский». Из цикла телепередач ТК «Культура» «Библейский сюжет». Архивная копия от 14 февраля 2017 на Wayback Machine
Комментарии
Примечания
Литература
2